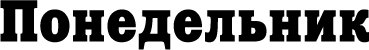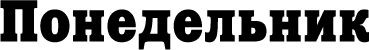Как они вообще там оказались? Что с ними будет дальше?
В классическом художественном фильме «Голдфингер» одноименный злодей собирался взорвать атомную бомбу в хранилище золота США, чтобы «заразить» запас и сделать его непригодным к использованию десятилетиями. Это не уничтожило бы золото физически, но вывело бы его из мировой экономики. А стоимость золота Голдфингера за пределами США взлетела бы до небес. В случае с российскими запасами злодей не понадобился: они в одночасье оказались пусть и не токсичным, но тоже выведенными из экономики. Как так вышло и что будет дальше, разбирался «ПН».
Что случилось?
После 2022 года и наложенных санкций большая часть валютных и золотых резервов российского Центробанка оказалась заморожена в юрисдикциях западных стран – преимущественно в европейских клиринговых и депозитарных структурах. Это такие сложно устроенные финансовые организации, которые «рыбов не продают, а просто показывают»: золото, облигации, валютные депозиты находятся на специальном счете (custody account), но юридически принадлежат не ему, а стране-клиенту.
В данном случае – Российской Федерации, Центробанк которой держал в зарубежных финансовых учреждениях свои внушительные резервы. И продолжает держать, но с ограничениями: эти активы технически остаются российской собственностью, однако «хранители» ограничили доступ к ней и заблокировали любые переводы. Де-юре ЦБ РФ резервами по-прежнему владеет, но де-факто ни платить, ни переводить, ни конвертировать их не может.
А как много?
Оценки сильно разнятся, но большая часть экспертов сходится во мнении, что под заморозку попало никак не меньше $280 млрд активов. Это не только золото: на «блоке» также иностранная валюта и ценные бумаги, которые Центробанк РФ держал за рубежом. Главным образом в Люксембурге и Бельгии: значительная часть в бельгийском Euroclear, другая часть в Clearstream (Люксембург). В чуть меньших объемах российские резервы хранятся в банках и депозитариях США, Японии и других странах, которые по совпадению попали в российский список «недружественных».
В большинстве юрисдикций активы только заблокированы: право собственности остается у российского ЦБ, но доступ к ним запрещен. На повестке дня в ЕС регулярно возникают дискуссии о полномасштабной конфискации активов в пользу третьей стороны или просто в собственный карман. Но пока все обходится только разговорами и перекладыванием в свои карманы процентов (активы вложены в высокодоходные инструменты). Как говорится, и хочется, и колется.
Дело в том, что европейские структуры и финансовые институты столетиями выстраивали репутацию надежного бастиона для хранения резервов, и им не нравится перспектива в одночасье оказаться на одном уровне со злодеем-Голдфингером. Опять же есть международные договоры об инвестициях, принцип суверенного иммунитета, нерушимость имущественных прав. Прецедент с конфискацией может очень больно ударить по репутации западных финансовых институтов, если не разрушить до основания. Может начаться паника, и остальные страны побегут забирать свои деньги. А еще РФ непременно будет судиться, и шансы на победу у нее довольно высокие.
Как деньги оказались там?
В советское время резервы в виде золота и драгоценных металлов держали в государственных хранилищах, иностранную валюту – на депозитах и корреспондентских счетах в советских банках и частично – за рубежом. Советская система была одновременно и закрытой, и централизованной – подробные данные о составе и расположении резервов почти не публиковались и считались государственной тайной. Еще, в отличие от многих западных стран, СССР не инвестировал в международные финансовые рынки в открытой форме, основной акцент был на обеспечении торговли и стратегической безопасности внутри страны.
В новейшее время ситуация развернулась на 180 градусов: постсоветская Россия активно интегрировалась в мировую экономику, значительная доля валютных резервов была инвестирована в иностранные государственные ценные бумаги. Депозиты и корреспондентские счета переехали в Западную Европу и США. В нулевые и десятые годы нормальная практика не только для Российской Федерации, для многих стран вообще – держать резервы там же, где проходят основные торговые и финансовые расчеты.
Это касается и самых развитых экономик мира: все они держат часть золота и резервов не внутри страны, а за границей (Bank of England, Banque de France – центробанки Англии и Франции соответственно). Это дает им ликвидность и возможность быстрого обращения финансов на мировых рынках. При этом страны обычно распределяют свои запасы и резервы между несколькими депозитариями. Например, у Германии и Италии значительная доля золота хранится в Нью-Йорке и Париже.
Малые и средние экономики в свою очередь хранят весомую долю своих валютных резервов за рубежом именно для удобства проведения платежей и снижения операционных расходов (содержать большие внутренние хранилища и инфраструктуру дороже).
Что же теперь будет?
По сложившейся традиции, будет много выражений решительной озабоченности, заявлений в непоколебимой стойкости и популярной стратегической неопределенности. Часть экспертов уверена, что конфискация российских активов вряд ли случится: для этого понадобится специальное решение правительства страны-хранилища или международный арбитраж, что крайне редко и политически сложно. Драгметаллы тоже не отберут: с «физическим» золотом в хранилищах вроде Форт-Нокса или Банка Англии ничего нельзя сделать без разрешения владельца, даже если действуют санкции. Однажды все вернется на круги своя, говорят экономисты.
Другие полагают, что европейцы в итоге отбросят остатки приличий и конфискуют российские резервы. Уровень ожесточения ряда стран ЕС по отношению к РФ и правда очень высокий. Более того, эти эксперты уверены, что наши власти уже мысленно простились с активами. Довольно сомнительный тезис, если ориентироваться, например, на то, что пишет Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Поборемся!